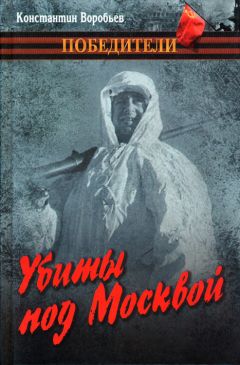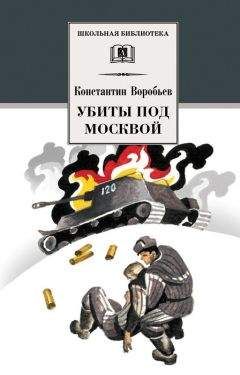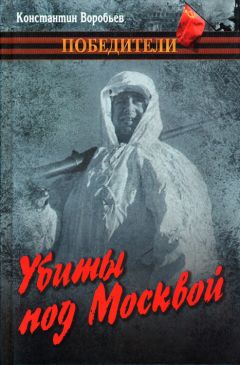Анатолий Ким - Будем кроткими как дети [сборник]
«Стой, Юра, не улетай!» — хотелось крикнуть Тянигину то первое, что пришло в его ошеломленную голову, однако он побоялся, что криком может каким-нибудь образом спугнуть друга, и тот расшибется насмерть, грянувшись на землю с такой высоты. Великую тоску и щемящую виноватость почувствовал вначале Алексей Данилович в сердце своем, глядя на маленькое пятно улетавшего Турина. Но затем страшное смятение охватило Тянигина, он, спотыкаясь, побежал вслед за летящим другом, но вдруг остановился, всплеснул руками, хлопнул себя по бедрам развернувшись, помчался назад к шоссе. По нему с ревом проехала колонна грузовиков, только что миновала стоящий у обочины «Москвич», Тянигин, задыхаясь в резком чаду выхлопного газа, понесся вдогон последней машине, крича сорванным в первый же миг выкрика сиплым голосом: «Стой, ребята! Тормози, братцы! Сто-ой!» Но караван грузовиков уходил, не задерживаясь, и Алексей Данилович, видя бесполезность погони, остановился посреди дороги, бурно дыша широко разинутым ртом. Он лихорадочно поозирался окрест и заметил лишь одного еще человека вдали, который мог бы быть свидетелем необыкновенного, научно необъяснимого чуда: маленькая фигурка верхового сарымца маячила в степи, за цепочкою разбредшихся по снегу коровенок. И Тянигин решил устремиться к нему — потому что нельзя было оставить сей случай без человеческого свидетельства, без надежного доказательства того, что подобное невероятие возможно на свете. Мир словно бы грозно переворачивался в глазах Тянигина — весь мир и, главное, незыблемое и привычное представление инженера о человеке…
Но тут Алексей Данилович пошарил глазами в небе и не увидел летящего Турина. Тот уже, оказывается, спустился на землю, отлетев метров на триста от машины, и теперь, размахивая шапкой, трусил назад, к дороге. Над белой плоской степью неслись его ликующие вопли. Тянигин бросился ему навстречу — и скоро они с разбегу столкнулись, крепко обнялись и закружились на месте.
— Что это было… Юра? — отстранив друга и со страхом, с удивлением, почти с мукою глядя на него, спрашивал потом Тянигин.
— Сам не знаю, Данилыч, — отвечал Гурин, плача, вытирая мокрое лицо шапкой. — Взял и полетел… Я летел, ты видел, Леша?
— Ну-ка, давай еще раз, — потребовал Тянигин, и глаза его стали напряженными, огненными. — Давай скорее еще раз. Ну, Юра!
— Не могу, Лешенька, — слабым голосом отвечал Гурин, всхлипывая и счастливо глядя на друга. — Не выйдет у меня больше.
— Почему? — нетерпеливо вскричал Алексей Данилович. — Ты должен повторить… Потому… потому что это черт знает что. Этого быть не должно. Ни один человек на земле… слышишь?! Э, черт, почему не можешь еще раз? Ну, пожалуйста, Юра!
— Я не могу снова… Сам, понимаешь? Сам себя привести в такое состояние, — пояснил Гурин.
— В какое? Ну, в какое? — жадно приступал к нему Тянигин.
— Сначала мне было тяжело, — стал рассказывать Гурин, — так тяжело было на душе, что не хотелось ничего — ни двигаться, ни смотреть кругом. Мне показалось, что я умру сейчас. Я остановился. И тут, вот в этом месте, — Гурин приложил шапку к груди, — стала нарастать физическая тяжесть. Как будто камень стал набухать там, глыба каменная. Я чувствовал, как она все сильнее давит вниз, и не мог сделать ни шагу, ни повернуться, ни крикнуть. В голове как будто закипело, в глазах все поплыло… И вдруг, Данилыч, тяжесть внутри меня оборвалась, ухнула вниз — а я полетел… Я испугался, что упаду вниз и разобьюсь, но почувствовал, что все тело мое ничего не весит, как в воде. И тут шапка с меня долой, упала вниз. Я смотрел, как она падает, и вдруг увидел, что я тоже пошел вниз. Мне хотелось, Данилыч, еще немного полетать, но я почувствовал, что э т о во мне постепенно кончается.
— Что «это»? — вскричал Тянигин, тряся артиста за плечо. — Ну объясни, паря, что это такое?
— Не знаю, — отвечал Гурин. — Сам не знаю, друг.
Через час, прощаясь у трапа самолета, оба были бледны и выглядели несчастными. Вокруг несуетливо двигалась толпа, вытягиваясь в очередь перед трапом, щеголиха стюардесса в дубленке проверяла билеты и по одному пропускала пассажиров в самолет. Алексей Данилович с силою хлопнул по плечу Турина и, едва не плача, вымученно произнес:
— Ладно, паря… Я не знаю, что ты за кудесник такой… Может быть, посланец какой-нибудь от чужих миров. Но мне, Юра, кем бы ты ни был, тяжело отпускать тебя. На кого ты меня оставляешь, паря!
— Прощай, старый ты, добрый хрыч! Прощай, Данилыч, — говорил Гурин, трижды целуя друга.
Ему подумалось, что если он и впрямь послан кем- то от чужих миров, то пославший его является одним из существ, кто не допускает подлости, кто сам печален и любим и тоже любит кого-то, и ему больно в час разлуки с другом. И хорошо известно ему, что вся боль и любовь, которую он ощущает как свою душу, есть прозрачная и невидимая субстанция сказки.
А Алексей Данилович думал: «Такой вот Гурин. Человек необыкновенный. Летающий человек, вот он какой…»— и потом долго смотрел вслед самолету, пока тот не исчез в облаках.